|
ГДЕ МОИ СЕМНАДЦАТЬ ЛЕТ...

Кривобокий троллейбус маршрута «Б» тяжело, со скрипом, будто преодолевая сильное сопротивление, закрыл двери и покатился по проспекту Маркса к набережной. Мимо серых окон поплыли цветущие каштаны, длинный металлический забор вдоль сквера и свежие первомайские клумбы. Из водительской кабины потянуло табачным дымом. - От же ж… кУрить, - констатировала худая старуха в темно-зеленой вязаной кофте и подобрала крепче сумку на коленях. - Чтоб ему, - согласилась вторая, полная, в синей. Они сидели рядком напротив меня, плечом к плечу, и смотрели точно мне на переносицу. Обе. - Мой тоже курил, - сказала в зеленой, - пока сам не скурился, курва. - А мой пил, тудыть его, - глядя на меня сказала та, что в синей. - Помер? – уточнила в зеленой. - Не, пьет, чтоб его, - ответила в синей. Я подтянула край кримпленовой юбки к коленкам. Под пристальными взглядами старух я чувствовала себя голой и неправильной. Мне было почти 17 лет, стоял теплый май, и солнечные зайчики танцевали на коричневых дерматиновых сидениях видавшего виды троллейбуса Б, который медленно, но верно вез меня к важному моменту – выбору жизненного пути. Тогда я еще не знала, что всего через две с половиной недели случится невозможное – у меня выйдет первая публикация. Первая печатная работа! Первое признание! Чувства мои на тот момент сможет понять только тот, кто знает, что это такое - видеть свое слово печатным впервые. Городская вечерка, рубрика «Проба пера», украшенная витиеватым изображением пушкинской головы авторства самого поэта. Я буду держать номер в руках и не верить своим глазам. Название рассказа уже не помню, текст - практически без редактуры, объем - знаков 800. Счастья - полные штаны. Равноценного ощущения в жизни с тех пор не было, как не было мне повторно ни разу шестнадцати с половиной лет. - Печататься? Это тебе на седьмой этаж надо. И пропустила. На седьмом располагалась вечерка, первая дверь налево - отдела "Литературы". За козырным столом, что у окна – зав отделом, местный поэт. Игорь Петрович. Тяжела судьба поэта из глубинки. Про свою судьбу, он, судя по глазам, уже все понял, поэтому был скептически настроен к отрокам и отрокиням нежным, обуреваемым смутными желаньями. Он взял в руки мою тетрадку в линейку. Вздохнул глубоко и тяжко, вынул из ящика стола стандартный лист А4. - Вот, - сказал, - когда будешь ходить по редакциям, всегда пиши только на такой бумаге. Да, чуть не забыл, и обязательно только с одной стороны. Потом углубился в чтение. Я решила умереть сразу, на месте. Из ступора меня вывел голос поэта областного масштаба. - Что сеять-то? – спросил он, прочитав первое четверостишье. Я не сразу поняла, что речь шла о бессмертном стихе про молодежный форум свободных сынов. О судьбе дочерей, я почему-то умолчала. Игоря Петровича смутило слово «сей», в моем варианте являющееся синонимом слову «этот». «Боже мой, он ничего не понял… Он меня не понял… Разумеется, умереть на месте. Прямо тут, у него в отделе. Развалиться на полу с разрывом сердца, щелкнув костлявыми коленками.» Я ждала… Но разрыв не наступал. За окном все также резвился май и плясали солнечные зайчики. - Ладно, пусть полежит. Я посмотрю, – вздохнул он снова глубоко и тяжко, и отправил мою линейную тетрадку в большую вечную стопку бумаг. Такие стопки есть на столе у каждого, кто имеет дело со словоблудным производством. Стопки растут, жирнеют, покрываются толстым слоем пыли. Оттуда пахнет мертвечиной. Это – никогда не печатают. Я знаю, у меня на столе тоже была такая стопка. Потом, через много лет. Щупленькая правда, не такая как у Игоря Петровича, но была.
|
|
|




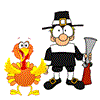












-middle.JPG)


















